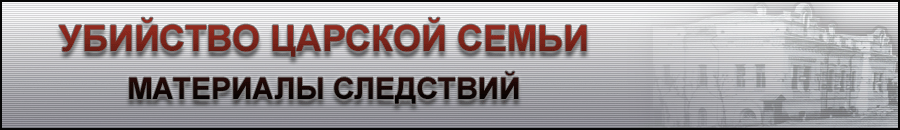
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Окружение царской семьи чекистами.
В первых числах июля в доме Ипатьева произошли большие перемены.
Авдеев, его помощник Мошкин и все рабочие злоказовской фабрики, жившие в верхнем этаже, были внезапно изгнаны, а Мошкин был даже арестован.
Вместо Авдеева комендантом стал известный уже нам Юровский, а его помощником некто Никулин.
Они заняли ту же комнату под цифрой VI, где жил и Авдеев. Но Юровский проводил лишь день в доме Ипатьева. Никулин жил в нем.
Через несколько дней после появления их прибыли еще десять человек, поселившиеся в нижних комнатах под цифрами II, IV и VI.
Они и стали нести внутреннюю охрану. Злоказовские же и исетские рабочие, жившие в доме Попова, были совершенно устранены от нее и продолжали нести исключительно охрану наружную.
Что означала эта перемена?
Чувство лодыря, соблазна легкого труда и небывалая по тем временам его оплата привели в дом Ипатьева пьяного слесаря от локомобиля и его пьяную ватагу. По своему круглому невежеству эти распропагандированные отбросы из среды русского народа, вероятно, сами себя считали крупными фигурами в доме Ипатьева. Они не сами пришли сюда. Их сюда посадили, а затем в нужную минуту выгнали.
Прибытие в Екатеринбург Императора вскрыло фигуру распорядителя Голощекина, прибытие детей — Юровского.
Шая Исакович Голощекин — мещанин г. Невеля Витебской губернии, еврей, родился в 1876 году. Партийная его кличка — Филипп.
Он кончил гимназию в Витебске и зубоврачебную школу в Риге.
В 1906 году он был арестован как большевик-пропагандист в пределах Петроградской губернии и в 1907 году был осужден Петроградской Судебной Палатой на 2 года в крепость.
Едва отбыв наказание, он тотчас же возобновил свою революционную деятельность в Москве и играл большую роль в московском комитете партии. Но скоро он был вновь арестован и сослан в Нарымский край.
В 1911 году он бежал из ссылки за границу.
Там в это время шла большая борьба в рядах большевистских фракций. С Лениным боролось левое крыло большевиков, обвиняя его в узурпаторских наклонностях и в измене принципам чистого большевизма. Правое крыло стремилось к соглашению с меньшевиками. Сам Ленин шел к захвату власти в партии и пытался создать сплоченное ядро профессиональных революционеров, чтобы, действуя через них как своих агентов, проводить нужные ему идеи. Подготовляя созыв общепартийной конференции, он домогался провести туда нужных ему людей.
Вернувшись в Россию, Голощекин оказал громадную услугу Ленину агитацией в рабочих районах и, в частности, на Урале.
Конференция собралась в Праге в 1912 году.
Голощекин был на этой конференции как представитель Москвы. Он тогда же был избран членом ЦК партии. Ему было поручено сделать доклады о работах конференции в Москве и на Урале с назначением его разъездным агентом “Русского Бюро ЦК”.
В том же 1912 году он вновь был арестован и сослан в Сибирь на 4 года.
В. Л. Бурцев говорит о нем: “Я знаю Голощекина и узнаю его на предъявленной мне Вами карточке. Это типичный ленинец. В прошлом он организатор многих большевистских кружков и участник всевозможных экспроприации. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми чертами дегенерации”.
Он был на Урале членом областного совета и областным военным комиссаром.
Этим положением Голощекина и определялась его роль в ипатьевском доме.
Когда возникла угроза большевистскому игу в лице атамана Дутова, Голощекин быстро создал кадры вооруженных уральских рабочих и бросил их в тыл Дутова. Бешено энергичный, он знал, благодаря своим старым связям на Урале, где брать живую силу большевизма.
Сысертский завод был одним из тех, кто дал Голощекину эту силу. Большинство сысертских рабочих входили в отряды, боровшиеся с Дутовым. Злоказовская фабрика была гнездом большевизма.
Охрана в доме Ипатьева носила характер военной организации. Рабочие, вошедшие в нее, считались красноармейцами. Их обучали военной службе.
Эту охрану в ипатьевском доме и создал Голощекин. Она и подчинилась ему как областному комиссару.
Медведев был давно агентом Голощекина. Он и набирал в Сысерти нужных Голощекину людей.
Жена Медведева откровенно показала при допросе: “Поручение (набрать охрану) было дано моему мужу комиссаром Голощекиным”.
Яков Михайлович Юровский — мещанин г. Каинска Томской губернии, еврей, родился в 1878 году [ 75 ].
Когда Юровский злобно иронизировал в тюрьме по адресу Татищева: “По милости царизма я родился в тюрьме”, он лгал, одеваясь в чужой костюм наследственного революционера.
Его дед Ицка проживал некогда в Полтавской губернии. Сын последнего, Хаим, отец Юровского, был простой уголовный преступник. Он совершил кражу и был сослан в Сибирь судебной властью.
Яков Юровский получил весьма малое образование. Он учился в Томске в еврейской школе “Талматейро” при синагоге и курса не кончил.
Мальчиком он поступил учеником к часовщику еврею Перману, а в 1891—1892 гг. открыл в Томске свою мастерскую.
В 1904 году он женился на еврейке Моне Янкелевой. В годы первой смуты он почему-то уехал в Германию и год жил в Берлине.
Там он изменил вере отцов и принял лютеранство.
Из Берлина он сначала проехал на юг и проживал, видимо, в Екатеринодаре. Затем он вернулся в Томск и открыл здесь часовой магазин.
Можно думать, что его заграничная поездка дала ему некоторые, средства. Его брат Лейба говорит: “Он был уже богат. Его товар в магазине стоил по тому времени тысяч десять”.
Это же время было и началом его революционной работы. Он был привлечен к дознанию в Томском Губернском Жандармскому Управлении и выслан в Екатеринбург. Это произошло в 1912 году.
Здесь Юровский открыл фотографию и занимался этим делом до войны. В войну он был призван как солдат и состоял в 698-й Пермской пехотной дружине. Ему удалось устроиться в фельдшерскую школу. Он кончил ее, получил звание ротного фельдшера и работал в одном из екатеринбургских лазаретов.
По характеру — это вкрадчивый, скрытный и жестокий человек. Его братья говорят о нем:
Эле-Мейер: “Он у нас считался в семье самым умным, а я человек рабочий. То, что он считался у нас самым умным, меня от него и отталкивало... Только могу сказать, что он человек с характером”.
Лейба: “Характер у Янкеля вспыльчивый, настойчивый. Я, учился у него часовому делу и знаю его характер: он любит угнетать людей”.
Жена Эле Лея показывает: “Янкеля, брата мужа, я, конечно, знала. Мы никогда не были с ним близки. Мы с ним разные люди: он перешел из иудейства в лютеранство, я — еврейка фанатичка. Я его не любила: он был мне всегда несимпатичен. Он по характеру деспот. Он страшно настойчивый человек. Его выражение всегда было: “Кто не с нами, тот против нас”. Он эксплуататор. Он эксплуатировал моего мужа, своего брата”.
До революции Юровский не был заметен на фоне местной жизни. После переворота 1917 года он — большевик с первых же дней. Озлобленный демагог, он участник митингов и в солдатской шинели натравливает солдатские массы на офицеров.
После большевистского переворота Юровский — член Уральского областного совета и областной комиссар юстиции.
Ему принадлежала в доме Ипатьева не меньшая роль, чем Голощекину: он бывал здесь в роли наблюдателя за жизнью семьи.
Врач Деревенько [ 76 ] показывает: “С убийцей Государя Императора Николая II Юровским я встретился в г. Екатеринбурге в июне месяце 1918 года в доме Ипатьева, где находилась царская семья.
Там я был как личный врач Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, у которого состоял безотлучно с 1912 года... В одно из посещений, зашедши в комнату, я увидел сидящего около окна субъекта в черной тужурке, с бородкой клинчиком черной, черные усы и волнистые, черные, не особенно длинные, зачесанные назад волосы, черные глаза, полное скуластое лицо, чистое, без особых примет, плотного телосложения, широкие плечи, короткая шея, голос — чистый баритон, медленный, с большим апломбом, с чувством собственного достоинства... Осмотревши больного, Юровский, увидев на ноге Наследника опухоль, предложил мне наложить гипсовую повязку и обнаружил этим свое знание медицины. При нашем входе сидевший тут же Государь встал. Юровский, осмотрев больного, повернулся к столу, остановился, заложив руки в карманы, и начал рассматривать находившееся на столе. После этого все мы вышли. При выходе я спросил Авдеева: “Что это за господин?” Последний ответил: “Это Юровский”. Какую роль играл Юровский, он не сказал, но я знал, что Юровский играл очень, очень важную роль”.
Дом Ипатьева выделяет еще третью фигуру: Белобородова.
Александр Георгиевич Белобородов — родом из Лысьвенского завода Пермской губернии, в возрасте 32—35 лет, русский, конторщик по профессии. Он числился председателем Уральского областного совета.
Из него хотят сделать крупную революционную фигуру. Это неправда. Распропагандированный рабочий, невежественный, он был порождением уральской глуши. Его, быть может, никогда бы не увидели за ее пределами, если бы не убийство царской семьи. Только после этого он оказался членом ЦИКа и видным столичным чекистом.
Он никогда не был самостоятелен и в роли председателя областного совета. Одно время он был арестован за кражу или присвоение 30.000 рублей, содержался в тюрьме, был освобожден и снова занял свой пост.
Местный большевик Юровский бледнеет перед Голощекиным. Я не могу и сравнивать с ним Белобородова. Он ближе к Авдееву, отличаясь от него разве красным почерком.
Для Ипатьевского дома эти три человека связывались, как, впрочем, и для всего населения Екатеринбурга, не их положением в областном совдепе. Они были страшны, внушали ужас своей ролью в чека, где они были руководителями.
Областная чека занимала в Екатеринбурге гостиницу, известную под именем “американской”.
Когда она была занята большевиками, там остался старый аппарат служащих.
Горничные гостиницы Пьянкова, Морозова, Дедюхина и Швейкина показали [ 77 ]:
Пьянкова: “Из комиссаров я знаю Голощекина и Юровского; за первым из них числился номер 10, а за вторым номер 3. Юровский постоянно принимал участие в заседаниях чрезвычайной комиссии; бывал на них и Голощекин”.
Морозова: “Комиссия собиралась часто на заседание в номере 3-м, числящемся за комиссаром Юровским. Юровский в гостинице не жил, но почти всегда присутствовал на заседаниях и сидел на главном месте... Комиссар Голощекин также приезжал на заседания, но числился ли за ним номер, не припомню”.
Дедюхина: “Из комиссаров я знаю Голощекина и Юровского; за Голощекиным числился номер 10, а за Юровским номер 3 (лучший и самый большой), в номерах этих они не жили, а приходили только на занятия”.
Швейкина: “Я служила около 25 лет горничной в американской гостинице до занятия ее большевиками в начале июня прошлого года. После занятия гостиницы служащие, в числе их и я, остались на своих местах. В гостинице поселились Чрезвычайная комиссия и боевой отряд палачей, красноармейцев... В тех заседаниях, которые были важными (судя по их продолжительности), участвовали комиссары Белобородов, Голощекин, Чуцкаев, Жилинский и Юровский... За Юровским числился номер 3, но он в нем не жил, а только занимался. За Голощекиным числился номер 10, но жил он в нем лишь последние 4-5 дней перед эвакуацией”.
Летом 1918 г. в г. Алапаевске Пермской губернии находился в ссылке в числе других лиц Императорской Фамилии Князь Иоанн Константинович со своей женой Княгиней Еленой Петровной — Королевной Сербской.
В июне месяце Княгиня поехала в Екатеринбург, надеясь получить разрешение для поездки в Петроград к своим детям. Ее должны были сопровождать ее секретарь Смирнов, сербский майор Мичич и два сербских солдата Божичич и Абрамович. 7 июля все они были арестованы и отправлены в чека. Смирнов [ 78 ] показывает: “...В нашу комнату вошла группа чекистов с неизвестным мне лицом во главе, распоряжавшимся обыском. Это лицо обратило главное внимание на майора и само производило у него личный обыск, обнаружив приемы опытного сыщика. Оно само ломало воротничок майора, осматривало тщательно подошвы его сапог и т. п. Красноармейцы, к которым я обратился за вопросом, сказали мне, что человек этот Юровский, что он “комиссар дома Романова”.
20 июля узники были переведены в пермскую тюрьму. Это было ужасное время. Многие погибли, кто содержался здесь.
Смирнов показывает: “Голощекина я видел в пермской тюрьме. Я видел его раза два. В первый раз он был в тюрьме в сопровождении каких-то других комиссаров, обходил камеры, был и в нашей. Я положительно знаю, что в это посещение решался вопрос о том, кто будет расстрелян. Голощекин был главным лицом в этой комиссии. Во второй раз он был у нас в камере в сопровождении какого-то местного комиссара, и этот комиссар делал ему, Голощекину, доклад, какие арестанты и за что сидят... Он был главным лицом. Роль Юровского в областной чека была очевидна”.
Откуда взялись те десять человек, которые составили новую внутреннюю охрану?
Якимов объяснил: “Юровский тогда же (в первый день прибытия в дом Ипатьева в качестве коменданта) спрашивал Медведева, кто несет охрану внутри дома, т. е. на постах № 1 и 2. Узнав, что внутреннюю охрану несут эти самые “привилегированные” из партии Авдеева, Юровский сказал: “Пока несите эту охрану на этих постах вы, а потом я потребую к себе людей на эти посты из Чрезвычайной комиссии”. Я категорически утверждаю подлинность этих слов Юровского о людях из Чрезвычайной комиссии. Действительно, через несколько дней эти люди из Чрезвычайной следственной комиссии и прибыли в дом Ипатьева. Их было десять человек. Их имущество привозилось на лошади. Чья была эта лошадь, кто был кучер, не знаю. Но только всем тогда было известно, что прибыли эти люди из чрезвычайки, из американской гостиницы”.
Обвиняемые Медведев, Якимов и Проскуряков называют этих людей “латышами”.
В их устах это слово имеет, однако, несколько иной смысл.
Главную вооруженную силу большевиков в Сибири составляли латышские отряды и австро-немецкие пленные. Они держались замкнуто, отчужденно от русских красноармейцев.
Последние противопоставляли себя им и всех вообще нерусских большевиков называли “латышами”. Большевик Медведев, состоявший в сысертской партии, плативший даже партийные взносы, отнюдь не считал себя большевиком. Он называл большевиками людей нерусских.
Следствием удалось установить, что из этих десяти человек пятеро были нерусские и не умели говорить по-русски. Юровский, знавший немецкий язык, говорил с ними по-немецки.
На террасе Ипатьевского дома, где был пост № б, я обнаружил надпись на русском языке: “№ 6. Вергаш карау... 1918. VII/15”.
Кто-то, стоявший на этом посту за сутки до убийства, хотел увековечить свое имя, но запутался в слове “караулил”.
Тогда он написал по-мадьярски: Verhas Andras 1918 VII/15 eorsegen.
Осматривая сады Ипатьева, я нашел здесь обрывок письма на мадьярском языке на имя “Терезочки”. Его писал весной 1918 года охранник.
Экспертиза пришла к выводу, что это письмо писано мадьяризированным немцем.
Из остальных пяти один был русский и носил фамилию Кабанов. Другие четверо говорили по-русски, но их национальности я не знаю.
Помощник Юровского Никулин был, видимо, русский. Удалось точно установить, что он до переселения в дом Ипатьева жил в американской гостинице и был назначен чека, как и остальные десять человек.
В доме Ипатьева поселился отдел чека во главе с самым видным чекистом Юровским. Вот смысл перемены, происшедшей здесь в первых числах июля месяца. Чем она была вызвана?
В мае месяце близкие царской семье Толстые послали в Екатеринбург своего человека Ивана Ивановича Сидорова.
Он отыскал доктора Деревенько, и тот сказал Сидорову, что царской семье живется худо: тяжелый режим, суровый надзор, плохое питание.
Они решили помочь семье и вошли в сношения: Сидоров с Новотихвинским женским монастырем, а Деревенько — с Авдеевым.
Было налажено доставление семье разных продуктов из монастыря. Их носили послушницы Антонина и Мария. Они показали [ 79 ]:
Антонина: “После того, как стал этот господин (Сидоров) к нам ходить, однажды пришел к нам доктор Деревенько. Я его видела сама. Он мне сказал, что у него, Деревенько, был разговор с комендантом ипатьевского дома Авдеевым, и тот позволил в этот дом царской семье разную провизию доставлять. Я знала, что Иван Иванович должен был идти к доктору Деревенько относительно царской семьи. Вот после этого Деревенько к нам и пришел. Ну, тут матушка Августина приказала нам с послушницей Марией идти в дом Ипатьева и нести туда четверть с молоком. Мы ее отнесли. Это было 5 июня по старому стилю. Потом мы так и стали носить разную провизию царской семье. Носили яйца по два десятка, сливки, сливочное масло, иногда мясо, колбасу, редис, огурцы, ботвинью, разные печенья (пироги, ватрушки, сухари), орехи. Как-то сам Авдеев сказал нам, что Император нуждается в табаке. Так он и сказал тогда — “Император”. Мы и табаку доставали и носили. Все от нас всегда принимал или Авдеев, или его помощник. Как, бывало, мы принесем провизию, часовой пустит нас за забор к крыльцу. Там позвонят, выйдет или Авдеев, или его помощник, и все возьмут. Авдеев и его помощник очень хорошо к нам относились, и никогда мы от них худого не слыхали. 22 июня (по старому стилю) мы принесли разную провизию. Ее от нас взяли. Кажется, помощник Авдеева взял, но тут заметно было, что у них смущение: брать или не брать. Мы ушли, но скоро нас догнали двое красноармейцев с винтовками, посланные из ипатьевского дома, и нас вернули назад. Там к нам вышел новый уже комендант, вот этот самый, карточку которого я вижу (предъявлена карточка Юровского), по фамилии, как потом мы узнали, Юровский, и строго нас спросил: “Это вам кто позволил носить?” Я сказала: “Носим по разрешению коменданта Авдеева и по поручению доктора Деревенько”. Тогда он стал нам говорить: “А другим арестованным вы носите, которые в тюрьмах сидят?” Я ему отвечаю: “Когда просят, носим”. Ну, больше ничего не было, и мы ушли. На другой день 23 и 24 июня мы опять носили провизию. Носили молоко и сливки, Юровский опять к нам пристал: “Вы это что носите?” Мы говорим:
“Молоко”. — “А это что в бутылке? Тоже молоко? Это сливки”. Ну, после этого мы стали при Юровском носить только одно молоко. Так и носили до 4 июля по старому стилю... Носили мы царской семье провизию не в монастырском одеянии, а в вольном платье. Нам так доктор Деревенько сказал, а он об этом с Авдеевым уговорился. Авдеев и знал, что мы из монастыря носим, но никому, должно быть, из своих красноармейцев не сказывал”.
Мария: “В прошлом году позвала меня матушка Августина к себе и приказала мне: “Надень светское! Будешь с Антониной молоко носить в ипатьевский дом”. Тут сказала она, что царской семье это молоко пойдет. Светское я надела, Антонина тоже, и понесли мы молоко. Четверть понесли. А было это 5 числа июня месяца. Потом мы стали носить сливки, сливочное масло редис, огурцы, ботвинью, разные печенья, иногда мясо, колбасу, хлеб. Все это брал у нас или Авдеев, или его помощник. За забор нас пустят, к крыльцу мы подойдем; часовой позвонит, выйдет Авдеев или его помощник, возьмут от нас провизию, и мы уйдем... Очень хорошо к нам Авдеев и его помощник относились. Так и носили мы провизию до 22 июня. 22 числа приносим. Какой-то, кажется, солдат взял у нас провизию, но какое-то смущение у них было, и что-то такое непонятное говорили: “Брать или не брать?” Взяли. Дорогой нас солдаты с винтовками догнали и назад вернули. Мы пришли. К нам вышел новый комендант, вот этот самый, который на карточке изображен (предъявлена карточка Юровского), Юровский по фамилии, и говорит строго нам: “Кто вам носить дозволил?” Мы отвечаем: “Авдеев приказал по распоряжению доктора Деревенько”. А он говорит: “Ах, доктор Деревенько! Значит, тут и доктор Деревенько!” Видать, что он тут доктора Деревенько с Авдеевым в одном повинил; что оба они царской семье облегчение делали. А потом нас и спрашивает: “Вы откуда носите?” Ну, мы знали, что известно было Авдееву, кто мы такие и откуда молоко носим. А тут скрываться хуже, пожалуй, будет, мы и говорим: “С фермы носим”. — “Да с какой фермы?” Мы и сказали: “С монастырской фермы”. Юровский тут же наши имена записал. Ничего больше он нам не сказал. Запрещения не было носить, мы и на другой день снесли провизию и на третий день (24 июня по старому стилю) понесли. Тут нас Юровский спрашивает, на каком основании мы сливки носим. Мы говорим, что молоко носим, а не сливки (в отдельной бутылке), а что не было запрещения носить кроме четверти еще и бутылку. Он сказал, чтобы мы носили только одну четверть молока, а больше бы не смели носить. Мы стали носить одно молоко”.
Скажут, что не царской семье шли продукты, а товарищу Авдееву. Я допускаю, что многое, быть может, не доходило до семьи. Но нет сомнения, что соглашение у Деревенько с Авдеевым было, и чекисты не знали об этом.
Обвиняемые Проскуряков и Якимов объяснили:
Проскуряков: “Я вполне сам сознаю, что напрасно я не послушался отца и матери и пошел в охрану. Я сам теперь сознаю, что нехорошее это дело сделали, что побили царскую семью, и я понимаю, что и я нехорошо поступил, что кровь убитых уничтожал. Я совсем не большевик и никогда им не был. Сделал это я по глупости и по молодости. Если бы я теперь мог чем помочь, чтобы всех тех, кто убивал, переловить, я бы все для этого сделал”.
Якимов: “Вы спрашиваете меня, почему я пошел караулить Царя. Я не видел в этом тогда ничего худого. Как я уже говорил, я все-таки читал разные книги. Читал я книги партийные и разбирался в партиях. Я, например, знаю разницу между взглядами социалистов-революционеров и большевиков. Те считают крестьян трудовым элементом, а эти — буржуазным, признавая пролетариатом только одних рабочих. Я был по убеждениям более близок большевикам, но и я не верил в то, что большевикам удастся установить настоящую, правильную жизнь их путями, то есть насилием. Мне думалось и сейчас думается, что хорошая, справедливая жизнь, когда не будет таких богатых и таких бедных, как сейчас, наступит только тогда, когда весь народ путем просвещения поймет, что теперешняя жизнь не настоящая. Царя я считал первым капиталистом, который всегда будет держать руку капиталистов, а не рабочих. Поэтому я не хотел Царя и думал, что его надо держать под стражей, вообще в заключении для охраны революции, но до тех пор, пока народ его не рассудит и не поступит с ним по его делам: был он плох и виноват перед Родиной или нет. И если бы я знал, что его убьют так, как его убили, я бы ни за что не пошел его охранять. Его, по моему мнению, могла судить только вся Россия, потому что он был Царь всей России. А такое дело, какое случилось, я считаю делом нехорошим, несправедливым и жестоким. Убийство же всех остальных из его семьи еще и того хуже. За что же убиты были его дети? А так, я еще должен сказать, что пошел я на охрану из-за заработка. Я тогда был все нездоров и больше поэтому пошел: дело нетрудное... Я никогда, ни одного раза не говорил ни с Царем, ни с кем-либо из его семьи. Я с ними только встречался. Встречи были молчаливые... Однако эти молчаливые встречи с ними не прошли для меня бесследно. У меня создалось в душе впечатление от них ото всех.
Царь был уже немолодой. В бороде у него пошла седина... Глаза у него были хорошие, добрые... Вообще он на меня производил впечатление как человек добрый, простой, откровенный, разговорчивый. Так и казалось, что вот-вот он заговорит с тобой, и, как мне казалось, ему охота была поговорить с нами.
Царица была, как по ней заметно было, совсем на него непохожая. Взгляд у нее был строгий, фигура и манеры ее были, как у женщины гордой, важной.
Мы, бывало, в своей компании разговаривали про них, и все мы думали, что Николай Александрович простой человек, а она не простая и, как есть, похожа на Царицу. На вид она была старше его. У нее в висках была заметна седина, лицо у нее было уже женщины не молодой, а старой. Он перед ней означался моложе.
Такая же, видать, как Царица, была Татьяна. У нее вид был такой же строгий и важный, как у матери. А остальные дочери Ольга, Мария и Анастасия важности никакой не имели. Заметно по ним было, что были они простые и добрые.
Наследник был все время болен, ничего про него я сказать Вам не могу.
От моих мыслей прежних про Царя, с какими я шел в охрану, ничего не осталось. Как я их своими глазами поглядел несколько раз, я стал душой к ним относиться совсем по-другому: мне стало их жалко...
Раньше, как я поступил в охрану, я, не видя их и не зная их, тоже и сам перед ними несколько виноват. Поют, бывало, Авдеев с товарищами революционные песни, ну, и я маленько подтяну, бывало, им. А как я разобрался, как оно и что, бросил я все это, и все мы, если не все, то многие, Авдеева за это осуждали...”
Не сомневаюсь: общение с Царем и его семьей что-то пробудило в пьяной душе Авдеева и его товарищей. Это было замечено. Их выгнали, а всех остальных отстранили от внутренней охраны.
Семья была окружена чекистами. Это было уже приготовлением к убийству.
75. Сведения о личности Юровского основаны на точных данных: на показаниях его матери Эстер Моисеевны, допрошенной агентом Алексеевым 27 июня 1919 года в Екатеринбурге, родных его братьев Эле-Мейера и Лейбы и 6. жены первого Леи-Двейры Мошковой, допрошенных мною 5 ноября того же года в г. Чите.
76. В. Н. Деревенько был допрошен военным контролем 11 сентября 1919 года в г. Томске.
77. Свидетельницы А. М. Пьянкова, П. И. Морозова, Ф. А. Дедюхина и А. Н. Швейкина были допрошены Сергеевым 18—26 февраля 1919 года в Екатеринбурге.
78. Свидетель С. Н. Смирнов был допрошен мною 16 марта 1922 г. в г. Фонтенбло.
79. Свидетельницы послушницы Антонина и Мария допрошены были мною 9 июля 1919 гола в Екатеринбурге.
